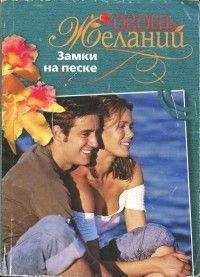Покуда шаман по таким делам бегал, Ромар безвылазно сидел в Большом селении, дневал и ночевал на воротах. Всякому понятно, раз такая беда привалила, нельзя, чтобы родичи даже на самое малое время без колдуна оставались. Шаманыш Рон теперь от безрукого старика на шаг не отходил, а в каждого соплеменника вглядывался — не мэнк ли притворился знакомым человеком? Хотя какие там силёнки у мальчугана — лет через пять, может, чего и получится из шаманыша, а покуда ещё мал.
Словно в былые времена люди старались не выходить за стены без особой надобности, а если уж приходилось покидать городьбу, то шли не поодиночке, а отрядами. Начинали даже поговаривать, что, мол, надо бы осенний праздник дожинок отменить, а то разбежится молодёжь, после того как посвящение примут, по рощам, а кто вернётся — одни предки знают. Этой осенью впервые после давнего разгрома посвящение в охотники должно было проходить не десяток человек, а как в добрые годы, целая толпа. Праздника ждали, и неудивительно, что при одной мысли о его отмене молодёжь начинала проявлять недовольство: «Кто такую ораву взять сможет? Это мэнкам жаборотым бояться надо, а мы тут у себя дома, нам каждый куст знаком!»
А потом на восходном берегу явились дымы. Не один, не два и не три, а многие десятки. Ясно, что это не разведчики, еженедельно отправлявшиеся на немирный берег, а какие ни есть незваные гости. В прежние годы на тот берег был бы послан отряд побольше — вызнать, кто бродит в Завеличье, а ежели что, то и отогнать подальше от родных берегов, но сейчас всякий понимал, что, кроме жаборотых чужинцев, с востока взяться некому. Оставалось ждать и надеяться, что разведчики, ушедшие туда три дня назад, сумеют неприметно вернуться.
Не вернулись. А дымы, не сигнальные, а простые, бивачные, надвинулись к самому берегу, ничуть не скрываясь, загрязнили весь небосклон, словно множество маленьких чёрных смерчиков расплясались на том берегу и сейчас упадут на людские селения траурным снегом.
Таши был среди тех, кто вызывался сходить на луговой берег, проверить, что за силы собираются там, но вождь не пустил. Такую орду отдельным отрядом не взять, их на переправе поджидать надо и бить в ту минуту, когда тебе сама Великая помогать станет. Дозоры были посланы вверх и вниз по течению, до островов. Что делать, ежели враг поднимется ещё выше, хотя бы на день пути, Тейко не знал. Ушлёшь воинов туда — селение без защиты останется. Как ни кинь — всюду клин. Тейко осунулся, ходил мрачный и частенько вспоминал беспечные времена, когда был простым охотником. Велит тебе мудрый вождь с врагом сражаться, ты и бьёшься там, где старший поставил, а об остальном голова не болит.
Потом дозорные сообщили, будто видели на том берегу диатритов. Десяток всадников выскочил на берег, спешно поворотил своих птиц и упылил неведомо куда. В это уже просто не верилось, хотя как можно не верить собственным разведчикам? На всякий случай вождь велел на ночь запирать стада в загонах, специально сделанных несколько лет назад, когда карлики, сумевшие оседлать хищных диатрим, ещё встречались в окрестностях Великой. К тому времени Уника с Калютой вернулись из обхода селений, и Ромар мог бы собираться в задуманный поход, только куда идти, если враг уже у самых стен бродит? Для того, кто лодки мастерить умеет, Великая не преграда; во всякий день мэнки могут явиться на этот берег. Хотя, с другой стороны, разведчики карликов видели, а диатримы воды боятся пуще, чем огня, и по доброй воле через реку не сунутся. Или мэнки и диатритов в пустыне достали? Тогда пусть они друг с другом бьются — людям это только на пользу.
Во всяком случае, Ромар поход отложил, и Таши, уже собравшийся идти вместе со стариком, вновь занялся ежедневными делами, стараясь не обращать внимания на дымы от костров, что теперь каждый вечер можно было заметить на том берегу.
Как противник пересёк реку, так и осталось неизвестным. Просто поднялись вдруг над крутояром тревожные дымные знаки, хрипло завыла священная раковина Джуджи, оповещая, что и сверху враги идут, и снизу идут, и отовсюду идут, а никто из ушедших накануне в дозор не вернулся и не рассказал, как было дело.
Таши как раз готовился заступать в караул, так что ему и собираться не надо было, сразу кинулся на стену. Лук у Таши был знатный, не хуже чем у отца, и стрелял Таши славно, хотя послать стрелу на другой берег не мог. Правда, Ромар признался как-то, что и никто на его памяти так далеко не стрелял, это только в песнях поётся, будто можно пустить стрелу с обрыва на луговой берег. А Таши — стрелок из лучших, в отца уродился, и потому его место на стене. Прежде частокол вокруг селения просто так стоял, вроде забора, лишь кое-где приступки были устроены для стрелков, а теперь всюду валом земля насыпана — и выворотишь тяжёлое бревно, всё равно к домам так просто не попадёшь. Работы, правда, было много — этакую прорву земли в корзинах натаскать. Зато теперь хорошо…
Последнюю мысль Таши додумать не успел — вспрыгнул на пристенок, глянул на зеленеющие поля и обомлел: к селению, прямо по зеленеющим полям, не скрываясь и не замедляя шага, двигалось войско. Там не было жаборотых, только люди — высокие, темноволосые, в плотных кожанах. У каждого в руках был лук, а за поясом — полированный боевой топор, которым так удобно дробить вражеские головы. Среди них не было не только стариков, но и просто пожилых воинов — лишь молодые парни, недавно прошедшие посвящение в мужчины. И все они были на одно лицо… Мгновение Таши непонимающе глядел на приближающуюся толпу, затем стрела, уже изготовленная для стрельбы, задрожала. Да ведь это он сам, разделившийся на великое множество народа, идёт воевать родное селение! Каждый из этих людей — Таши, и никого другого там внизу нет!
Таши понимал, что это очередной морок проклятых мэнков, но не мог выстрелить. Всякий знает, твой облик — это и есть ты, даже отражение в проточной воде нельзя ударить, не нанеся вреда самому себе. Так каково стрелять в самого себя?
Очевидно, эти же мысли владели всеми защитниками городища, потому что на стенах царила оцепенелая тишина и ни единая стрела не вылетела в сторону нападавших. Те приближались, медленно, словно нехотя. Им было некуда торопиться, они шли, зная, что никто не сможет поднять руку на себя самого, поскольку каждый видит в наступающей толпе только себя и никого больше.
— Что ж вы стоите? — закричал кто-то внизу, возле ворот. — Бейте! Я не могу, но вы-то бейте, я не обижусь!
Никто не может бить. Всякий уже узнал себя и стоит, застыв от невысказанного ужаса.
А те тоже не стреляют. Подошли, стараются отпихнуть в сторону закрывающие проход брусья, топчутся, словно не понимают, что с ними творится. Да и как иначе — что может понимать украденная душа? Так и будут топтаться, покуда разделяет противников деревянная стена. Хотя стена тоже не вечна — вот уже задымилась кое-где городьба, и слышны удары топора, пришельцы, убедившись, что снаружи слеги не отодвинуть, взялись прорубать себе путь. И с обеих сторон — ни единого выстрела, словно и войны никакой нет, а собрались люди для будничной работы.
![Святослав Логинов - Чёрный смерч [сборник]](https://cdn.my-library.info/books/46680/46680.jpg)